Главная страница
Полные тексты
Архивные материалы
Архив Артиллерийского музея, фонд 52р, оп.10, д.16
304 истребительно противотанковый артиллерийский полк.
[так стал называться 704-й АП после переформирования; см. в конце текста - А.Т.]
<...>
Август 1941 года.
Первое боевое задание
Всего несколько дней в Гатчине - на линии фронта.
Начальник вызывает к себе не только меня, но и штатного заведующего складом
артснабжения Ф.Ушакова - старшину сверхсрочника.
У Феди чрезвычайно воинственный облик: щуплая фигурка облачена в кирзовку, на
танкистской фуражке очки мотоциклиста, сбоку пистолет, а сверху, ударяясь то
дулом, то магазином о ноги, свисает чёрный Шмайссер... где-то он успел раздобыть
немецкий автомат?...
Ему жарко, сморщенное личико, верхняя губа со щетиной усов усеяны капельками,
говорит он решительным фальцетом...
Приказ командира полка: срочно пополнить запас снарядов для 107 мм корпусных
пушек. Машин в полку мало, поэтому собрать колонну тракторов с прицепами и отправиться
в Павловск. Там ПААС... Получаем также соответствующие назидания.. Разделяемся:
Ушаков едет в первый дивизион - он базируется в деревне вдоль шоссе на Павловск
- я во второй, при дороге на Тайцы-Дудергоф, что уже хуже так как в стороне
от маршрута. Причём придётся с тракторами этого дивизиона проезжать через часто
обстреливаемый перекрёсток трёх дорог у въездных ворот Гатчины.
Уже не помню, была ли у меня карта до Гатчины, или я вооружился ею /возможно
не без оказии, с начальником тыла / интендантом III ранга Алексеевым / который
ухитрился завести нашу колонну из Михайловки в кустарник вместо Тайц. здесь
так сказать во фронтовой полосе. Лучше её не было бы, ибо ввела она меня в искушение...
но об этом дальше.
Во втором дивизионе командир взвода боепитания Петренко, взъерошенный сумрачный
и мало подвижный, долго ворча, разыскивает трактористов и бойцов взвода. Выясняется,
что у одного из тракторов - теч[ь,] другой всё не заводится. Я, взвинченный,
торопящийся, ощущающий всё более нашу ответственность за "поход" на
армейский склад /боевое задание/, корю и тороплю его непочтительно.
Он - насквозь штатский - реагирует нервозно не на мой тон /всё же воентехник,
а не рядовой/, а на малоподвластную ему ситуацию, перебегает от трактора к трактору,
мешая трактористам...
В конце концов я сажусь на Нати-5 /трактор с кузовом/ и уезжаю вслед уже двум
двинувшимся тракторам с прицепами, которым я так и не дал точного указания маршрута
от перекрёстка. Неприятности начинаются с мелочей... одно упущение, другое,
недогадливость, самонадеянность и уже маячит беда...
Полагал, что быстроходный тягач догонит тракторы, но... запасная бочка с горючим
каталась свободно по кузову НАТи и часть горючего /болталась пробка/ вылилась,
просочилась через доски кузова [на] фрикционы... тягач начал сперва рыскать,
затем катиться, неподчиняясь, то к левому, то к правому кювету, даже на малой
скорости. Остановились. Завинтили, закрепили, а тракторы всё дальше уходят вперёд
к перекрёстку... Облаял растяпу и побежал вперёд за ними. В кирзовке конечно
душно, пот смешивается с дорожной пылью но вообщим терпимо.
Сердце ёкнуло - на километровой высоте спирально пролетел мессершмидт. Бегу,
задирая голову, пролетел ещё раз, не снижаясь. Понял - высматривает.
А тракторы с прицепами отчётливо видны сверху, подтянувшись к перекрёстку -
никто не знал, по какой из двух расходящихся дорог двигаться дальше - ждали
меня или кого-нибудь ещё, знающего. Наконец подбежал я, оказалось, что часть
бойцов слезла с прицепов и ушла вперёд, по шоссе на Ленинград.
Когда мы двинулись по дороге на Пушкин, они стали перебегать на эт[у] дорогу
через кочкарник и в это время начался обстрел.
Снаряды рвались как раз там, где они перебегали через пустошь между лучами дорог.
Во всяком случае осколки достигали обеих. Я знал, что это страшно, но мне было
не до него, всё вытесняла тревога за тракторы, чувство вины, боязнь сорвать
дело в самом начале. Кроме того я не знал что вернее - выезжать немедленно из
зоны огня или переждать? А тракторист[ы] сами залегли в кювет. Я закричал и
потребовал продолжать движение. А разрывы участились. Почти в исступлении я
стал грозить пистолетом. Наконец тракторы пошли, я бежал рядом, вдоль кювета,
плюхаясь на дно, при близких резких взрывах. Заметил, как пронёсшийся мимо грузовик,
затормозил, кого-то подняли, положили в кузов к сидевшим там людям и машина
умчалась.
Рядом со мной, на обочине, появилась гусеница, тёмная масса кузова, открылась
резко дверца, водитель звал меня.
Я раздражённо махнул рукой. Нати рванулся вперёд, обогнав все тракторы.
Наконец всё кончилось, разрывы остались позади, а вскоре и утихли. Мы перешли
железную дорогу, ещё немного и въехали в деревню, где вдоль шоссе вытянулась
колонна первого дивизиона. Суетились бойцы, бегал потея Ушков.
От помкомвзвода узнал, что один из бойцов ранен, это его поместили на попутную
машину и повезли в госпиталь.
Здесь в первом дивизионе тоже были долгие сборы. Выехали всей колонной поздно.
На первом гребне я посмотрел назад, на Гатчину, кое-где светились пожары...
казалось, что мы уже вне досягаемости - ночью с самолёта не увидишь.
Но тут новая причина для беспокойства, а вдруг кто отстанет?! Щели, через которые
пробивается свет фар, заметны только под определённым углом, луч ослаблен. Останавливаю
трактор. Иду от прицепов к прицепам, говорю: смотрите назад, если отстанет идущий
сзади трактор, останавливайте свой.
Впереди идущие, заметив это, также должны останавливаться.
Трогаемся. Я залезаю во второй прицеп, первого трактора. Здесь шесть бойцов
и лейтенант Олейников. Устроились неплохо - подос[т]лали сено. Ушков вместо
меня, флагманом, на тракторе. смотрю по карте - пока с дороги сбиться трудно.
Отхожу. Слушаю разговоры солдат. Рядом пристраивается Олейников - обычные при
фронтовых знакомствах вопросы: кадровый? откуда? Воевал уже? Олейников уже побывал
в тисках отступления - рассказывает подробности /не верить? у самого опыта нет./
несколько мюнхаузеновскую историю, как отбивался в перелеске от преследующих
немцев ракетами из сигнального пистолета-ракетницы. Хотя это происходило уже
в темноте, ему вроде удавалось увидеть /описывал увлечённо-красочно/ поражённые
ужасом физиономии фрицев.
Посматриваю на огоньки, следующие за нами. Задумываюсь, перебираю события последних
дней, вспоминаю мирное сидение в Михайловке, поездк[и] в Ленинград... всё сдвинулось
и пошло по другому, в нарастающем, прерывистом темпе непосредственно фронтовых
будней... и совсем другой ответственности!
Не могу не тревожиться. Посылаю бойца постучать в крышу - остановить трактор.
Подтягивается другой. Прыгаю на дорогу, захожу за последний прицеп - тёмная
ночь, без огонька, шума движения не слышно.
Спрашиваю бойца, почему не сигналили, что отстали?
Мнётся, бормочет - видно дремал. Ждём. Расхаживаю. Ругаю себя, Ушкова надо было
посадить на последний трактор.- ... Наконец появились...! Подбегаю, - в чём
дело? Почему оторвались...? Да, вот,.. свечи... Проверяю - все. Отряжаю Ушкова,
он ерепенится. Плюнул я, надоело ругаться при бойцах... Ещё несколько раз останавливались...
В конце концов, вблизи Пушкина, на развилке дорог, проверяя колонну, я обнаружил,
что трактористов с прицепами... стало... больше?! Выяснилось, что Петренко послал
их в догонку /сам остался./ сказав, что бы ехали в Пушкин. Хорошо, что мы останавливались,
могли бы уже проехать Пушкин, а в Павловске ничего не было известно.
В общем, лучше поздно, чем никогда.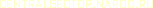
Двинулись дальше, я залез спать в прицеп - сбиться уже нельзя, даже Ушкову,
дорога сама выведет... А где мы точно, в темноте и сам не очень то представляю:
по обеим сторонам едва заметен лес, более тёмный чем небо, - видимо уже Баболовский
парк. Прицеп всё больше раскачивается, как на мелкой волне, как будто плывёшь,
... толчёк скрежет шкворня. Поднимаюсь: впереди красный огонёк, подходят люди.
КПП... Тонкий луч фары трактора высвечивает ажурную решётку... Ясно... это София.
Ограда Екатерининского парка. Двинулись вдоль к дворцу. Начинает светать. Чуть
проступают знакомые предметы, купы деревьев, постройки. Прочернела дуга Большого
каприза. Могли ли мы думать, что эта, так сказать музейная дорога между двумя
парками Царского села превратится в фронтовую...?
Мог ли я придумать поездку на тракторе, как на легковой автомашине, мимо Екатерининского
дворца, золото-лазоревой церкви с трепещущими на хрупких стёклах бликами, мимо
Пушкинского лицея, чтобы отставшие вновь тракторы разыскать и побриться? [в
парикмахерской; см. ниже - А.Т.]
А сколько ещё риторически потрясённых вопросов можно было задавать себе летом
и осенью 1941 года?
В том числе и практически-недоумённых сиюминутных, вроде: - почему железнодорожный
транспорт, орудийная установка большой мощност[и] стоящая у Тярлево, стреляет
не на юг, в сторону Гатчины, откуда мы приехали, а куда-то на юго-восток, к
Октябрьской железной дороге..?
После погрузки дал людям короткий отдых, они поели /сам то прихватил хлеб, да
что-то ещё - думал, по расстоянию, вернусь к вечеру, в крайнем случае утром
следующего дня, а в середине этого следующего [дня] мы ещё не выбрались из Пушкина.
Голоден не был - купил из остатков шоколада в магазине - целых полкило. Усладился!
Вновь незадача - не рассчитали горючее. Разыскал колонку - керосина не оказалось.
Заправились бензином. Кое-кто из бойцов задерживался, удивлённо разглядывая
массивы и убранства Екатерининского дворца. Олейников и я не ругая, поторапливали,
собирали, а сержанты считали бойцов. .. Начался дождь. Плохо! Дорога и так разбита
и размыта. Проверяем укладку ящиков, чтобы не съехали при резких наклонах прицепа.
Я на первом тракторе - договорился с Олейниковым, что будет следить сзади. Сидящим
на ящиках теперь, если приподнимутся, видна вся колонна. Вроде всё нормально...
ан нет! Наш трактор - рыскает - водитель задремывает, хотя и поспал во время
погрузки.
Взял у него рукоятки - выдерживать ровный бег оказывается не так уж сложно,
но усилие - постоянно!.. Сижу с достоинством.
Ответственное сознание и стихийное беспокойство однако не дремлют в моей совершенно
неопытной фронтовой фигуре, тем более, что мы едем к линии фронта уже со снарядами..!
Как уберечься от непредвиденного? Как снова не попасть с тракторами - 2-го дивизиона
под обстрел? Я даже не думаю, что сейчас день, и нас легко могут увидеть сверху,
бомбить и что это куда-более опасно, что по существу уже сейчас следовало расчленить
колонну вместо того, чтобы стягивать её. Олейников тоже не подсказал. А вот
дождь, нудно хлещущий из нависших серых туч, без нашего понимания делает своё
дело - укрывает от авиации.
Мысль гложущая и перекрывающая все - избежать опасности на гатчинской развилке,
хорошо пристрелянной...! Вот тут-то злокозненную роль сыграла карта! Вытащил
я её из планшетки, отдав [рычаги] водителю, развернул и стал изыскивать способы
обхитрить коварного врага...
И вроде нашёл: примерно за десяток километров от Гатчины, от шоссе вправо, пересекала
Ленинградское шоссе, а затем выходя к Тайцам, уходила дорога, которая после
пересечения с Ленинградским шоссе у поворота на Тайцы, соединялось с другой
тонкой ниткой прямо выводящей к Красносельскому шоссе; как раз напротив расположения
боепитания второго дивизиона. Это было здорово! Сомнений не возникало, желания
посоветоваться тоже...
На перекрёстке распрощался с Олейниковым, тракторы же 2-го дивизиона повёл вправо.
Дорога, однако, чем дальше, тем хуже: разбита по русски, грязь, глубокие колеи-канавки,
полные воды.
Тракторы и прицепы бросает из стороны в сторону, раскачивает вниз-вв[ерх.] Гусеницы
пробуксовывают, на катках налипают влажные комья.
От раскачивания и монотонных взвываний моторов клонит ко сну.
Едем так медленно, что пересекли Ленинградское шоссе уже в сумерках. Тут я уже
делаю совсем непростительную глупость - не предупредил Ушкова, сидящего на следующем
тракторе, о повороте налево. Поэтому, когда в наступившей темноте, еле различив
новую боковую дор[огу] среди кустарников, я сворачиваю на неё и останавливаюсь
немного проехав, слышу, что бойцы сверху кричат мне: не туда поехали! Смотрю,
обогнув прицеп, зрачков фар не видно, а дальше в темноте, удаляясь в противоположную
сторону, бодро тарахтят трактора. Бегу, в смятении и злобе на Ушакова на перекрёсток
и дальше по дороге углом свернувшей в сторону Тайц.
Под ногами жидко-липкое месиво, ещё более раскисленное [от слова "кисель"?
- А.Т.] гусеницами. Оступаюсь и плюхаюсь руками, коленями в эту грязь. Дождь
хлещет мне навстречу. Бегу уже мокрый, снова в темноте, на сколькой колее, падаю.
Теперь уже всё равно. Даже я, из-за проскальзывания и беспорядочности бега,
начинаю задыхаться.
Догнал, остановил, ругаюсь с Ушаковым. В темноте, слава богу, здесь дорога шире,
с трудом, с матюгами трактористов, разворачиваю прицепы, при чём один из них
едва-едва не съезжает в кювет. Когда, еле перематывая гусеницы /но натужно взрыкивая,
выбираясь из колдобины/ тракторы продвигались через густеющий кустарник, послышался
далёкий гулкий хлопок, затем разрыв где-то на пересечении нашего пути, за ним
другой третий. Не по шуму ли тракторов?
Решаю остановить всех, ждать рассвета, тем более, что дорога может тоже преподнести
свои неприятные сюрпризы. Поворчав, бойцы, тем более, что большинство захватило
плащпалатки да есть и брезенты, кое-как, под всё-ещё моросящим дождём, устраиваются
на ящиках. Я промок настолько, что не спадает[спасает? - А.Т. ] кирзовка, скорее
охлаждает - в открытой кабине тянет ветерком, всё кругом влажное.
Поёживаюсь. Думая о разном, жду рассвета. Засыпаю, усталый, урывками. И надо
же было так случиться, что ранним утром, дорожка-просека, по которой, ныряя
в углубления колей, упорно двигаясь наша процессия, вывела нас в самую середину
стоянки тыла нашего полка. Появился и интендант Алексеев - Его уже запрашивали
о нас, после прибытия колонны Олейникова в 1-й дивизион ещё прошлым вечером
- ругает меня за странный маршрут. Объяснений не принимает. Еду во 2-й дивизион,
туда вскоре приехал начальник, тоже отчитывает, но уже не за маршрут, а за долгое
путешествие.
Тут уж объяснять что-либо бесполезно. /хотя бы то, что люди мало отдыхали после
погрузки - я торопился обратно/ И увенчивается всё жалобами трактористов: угрожал-де
старшина /а если бы они знали, что под кирзовкой лишь красноармейские петлицы?!/
пистолетом. А я то в глубине души считал, что находчиво, энергично и спасительно
для людей и снарядов вёл себя в критические моменты, или предупреждая их. Не
без ошибок и незнания, конечно, но всё же...! В молодости редко и снисходительно
смотришь на дела и слова свои со стороны...centralsector.narod.ru
В Гатчине (24 августа - 10 сентября 1941 года)
После поездки в Павловск, начальник опять засадил меня за документацию. Ежедневно
я составлял сводку-донесение о наличии боеприпасов в полку /утром мне доставляли
данные из дивизионов /о расходе за сутки. Сводку делал в трех экземплярах.
Один относил в штаб 2 гвардейской дивизии народного ополчения, которую мы поддерживали
артиллерийским огнем, другую нес на КП полка, заходя по пути в штаб, где наши
данные сверялись с данными, поступившими прямо из дивизионов.
Штаб 2-й гвардейской ДНО был сравнительно недалеко от щели на окраине парка,
где, сидя на земляной ступени, подложив картонку и заполняя форму, а вот КП
полка примерно в 2,5-3 километрах рядом с железнодорожной насыпью ветки на МГУ,
за деревней, если не ошибаюсь, Большая загвоздка.
Лучшей ежедневной прогулки через небольшой уютный городок не придумаешь... да
вот ведь превратился он в оборонительный узел на пути к Ленинграду. Хотя немецкие
подвижные части не смогли сходу ворваться в него, они с юга и с юго-запада приблизились
к нему вплотную, подвергая постоянному, то тут, то там, артиллерийскому обстрелу,
а южную окраину и минометному.
Бомбежки с воздуха первое время были эпизодическими и довольно скромными, может
быть немцы хотели сохранить городок для себя, спесиво уверенные, что войдут
в него не сегодня-завтра.
В Гатчине жителей уже не было. Лишь кое-кому по-видимому удавалось добираться
из деревней расположенных севернее Пушкина - приходили с тележками, велосипедами,
детскими колясками - взять из дома ещё что-то жизненно необходимое, ценное.
Знойные дни, оцепенелость, тишина, особенно резко, надсадно прерываемая разрывами,
или, то стегающими (с нашей стороны) то отдалённо приглушёнными выстрелами пушек,
иногда рыком двигателей. Всё необычно: и опустевший городок, и бесполезные вывески
закрытых производств, магазинов, ларьков, школ и долетающий с порывами ветерка
вечернею порой перестук пулемётов с юга и сполохи ракет на переднем крае тёмной
августовской ночью - сразу к этому не приспособившись, тем более к прямой опасности
внезапных обстрелов. Вот потому-то в первые дни, двигаясь на КП, согретый лучами
радостного утреннего светила, чувствуешь себя в чём-то скованным, отчуждённым
от прекрасных куполов парка, мимо которых проходишь, от мирного небосвода, в
светло-голубом, искристо-мерцающем пространстве которого, прокладывает себе
дорогу веретена и гигантские капли грозного металла. И тем более... проходя
мимо батарей 76 мм дивизионных пушек 1936г, с длинными хоботами, задранными
кверху (остальные наши 107 мм батареи в кустарниках севернее Гатчины) хоронящихся
в разреженной части парка рядом с шоссе, узнать, что свёрток бросившийся в глаза
у бровки шоссе, недалеко от кухни батареи - это тело, погибшего от недавнего,
на зорьке, налёта на батарею. И тем более... в штабе полка слышишь разговор
о том, что по данным разведки, немцам, чьи танки и самолёты были некоторое время
на скудном пайке, горючего, усиленно его подвозят к Гатчине, Ропше, подтягивая
новые части из глубины.
И тем более... за железнодорожным переездом, где у начала дороги через деревню
заложен фугас и его объезжают и обходят, внезапные разрывы мин загоняют меня
с упавшим сердцем в пыльный кювет... Но, в конце концов, ко всему приспосабливаешься
и почти привыкаешь и прежде всего, к обстрелам артиллерии. Знаешь, что выпадают,
в соответствии с немецким распорядком (тогда они ещё блюли его) и тихие часы.
"Странная" манера стрелять поздней вечерней, а иногда и ночной порой
из одиночных орудий по отдельным участкам, методически передвигая прицел на
следующее деление. Такой обстрел напугал нас ночью, когда мы двигались из Михайловки
на фронт, в Гатчину, заставил меня при возвращении из Павловска заглушить моторы
тракторов... Здесь, в Гатчине, в нашем окопчике с перекрытием мы ста[ли] скоро
засыпать, как раз прислушиваясь к разрывам, то надвигающимся, то уходящим в
сторону в тёмном парке, а днём раскованно двигаться по городку и ближе к передовой,
всё более расчётливо соотнося своё движение с направлением и характером занудных
и внезапных обстрелов.
А вот как бомбёжка...!
Возвращаясь с КП, я и Толька Евдокимов, старшина, баламутный и недотёпистый,
низведённый начальником ещё в Петергофе до "простого писаря" /я числился
старшим, после прибытия старика интенданта на "командирскую должность"
зав. делопроизводством артснабжения. К великому моему удовольствию, уже в Михайловке
- так как я в постоянном движении - доставка боеприпасов, проверка в дивизионах
"разной необходимости" - удалось избавиться от ящика с книгами учёта,
накладными и т.п.
Старик сидел у него /или на нём/ в Тайцах. В Гатчине нами сооружались лишь самая
оперативная документация и ежедневны[е] сводки./любивший вспоминать поход 1939
года в Западную Украину и миновавший финскую - прошёл курсы артмастеров и попал
в 75 артбазу в Ленинграде, откуда его спровадили в наш полк - пообтесавшийся
и уже аккуратный кадровик, хитроватый при всей своей недотёпистости продукт
деревни, забрали[сь] из любопытства на пивоваренный завод, поразивший нас огромными
бочками и чанами, а также разноцветными канцелярскими формами, рассыпанными
в беспорядке в конторе.
Толька обнаружил во дворе бутыли с лакрицей - видно для фруктовых вод[,] а я,
неравнодушный к бумаге, перебирал её, подходя к свету /окну/ выходящему на асфальтированную
улицу.
Слева донеслось дружное шарканье многих ног и в ту же минуту его заглушило нарастающее
завывание - рокотание самолёта и затем повышающий стремительную высоту, многоструйный
свист.
Я совершенно бессознательно отшатнулся, ещё не сообразив, что это немецкий самолёт
сбросил бомбы в глубину комнаты.
Кто-то протопал по коридору... и всё зашаталось, брызнули стёкла, захлопнулись
двери, с потолка посыпалось что-то белёсое - заложило звуком взрыва и уплотнённым
воздухом уши, тело завибрировало... Я схватился за косяк - испуг был какой-то
физиологический, лишь когда всё быстро утихло, с улицы донеслись голоса, запахло
серой, я уже сознательно торопливо стал озираться в растерянности - в какой
угол забиться, если ещё полетят бомбы.
Но мимо дома прошли бойцы... и я вышел, на немного скованных ногах, во двор.
Толька бледный, озирался из-за огромного чана. При налёте на Михайловку [4 км
от Красного Села, по словам автора (в другом месте) - А.Т.], находясь вне постройки,
в неглубокой яме - правда бомбили они не деревню, а зенитную батарею на окраине,
я скорее с любопытством разглядывал низко летающих "Хейнкелей", и
даже пытался пострелять из автомата...
Здесь другое, полная неожиданность, бомбы легли где-то совсем рядом, всё неопределённо
- где самолёты? сколько?, направление полёта? и повидимому, самое главное -
непосредственное ощущение силы взрыва, волны, звука - сгущённое физиологическое
воздействие, рождающее чувство беспомощности... и парализующ[ий] страх!
Но они быстро сменяются, без привычки /все, кто переживал солидные бомбёжки
знают, кто к ним вообще-то и не привыкнешь, но сдерживать свои эмоции скоро
научишься/ подстёгивающим желанием куда-то выбежать из зоны бомбёжки.
Так со мной и случилось при следующей бомбёжк[е], которая также началась неожиданно...
Она была уже более основательной и длительной, хотя, как затем выяснилось, не
по наши бренные тела и души.
Я лежал на соломе в нашем укрытии /по существу окоп в форме буквы "П"
перекрытый одним накатом, шириной в нашем конце в 1 метр глубиной в 1,5-1,8
метра. На перекладине "буквы" он расширялся до двух метров, там была
санчасть/ и читал книгу.
В глубине дремали несколько человек из шестой батареи.
Наблюдателей здесь в далеке от передовой, никто не выставлял.
Неудивительно, что мы узнали о налёте большой группы самолётов на наш район
только тогда, когда земля содрогнулась и затем продолжала сотрясаться. Казалось,
что зашевелились земляные стены /стали сыпаться куски и мелочь/ и приподнимался
накат, откуда на голову и за шиворот потекли струйки бурого глинистого песка...
Общий нарастающий гул и более близкие отдающиеся внутри тела дробящиеся взрывы.
Все кто был в убежище застыли, распластавшись на земле[,] а я полежав, вскочил
суетливо тычась в стены, ударившись головой о накат. Ещё более близкая серия
разрывов подтолкнула меня в спину и я потрусил вдоль окопа, полусогнувшись,
наступив одному, другому на ногу, руку.. Какая-то шальная сила выпихнула меня
в расширение - в санчасти безмолвно, подняв голову, сидели девушки, тут-то я
"овладел" стихией, хотя и продолжал ощущать одновременно угнетение
тела и крайнюю возбуждённость нервов, уже медленно, всматриваясь, куда ставлю
ногу, вернулся в свой конец и поднялся по ступенькам... высунувшись, я обрёл
сразу стереоскопичность чувств: гул, сотрясения отодвинулись - хотя самолёты
летали над парком, бомбы кучно падали на постройки на возвышени[и] в метрах
150 от нас и далее. Всё стало понятно, там во дворе стояли 152 мм гаубицы-пушки
отдельного дивизиона. Самую длинную[ближнюю? - А.Т.] к нам воронку я приметил
на откосе метрах в 30-50-ти. Говорят - "У страха глаза велики!" Думаю
/для меня во всяком случае/, что на войне страх тем больше, чем ты меньше видишь
и сознаёшь. Страх усиливается от слепоты, от неведения! А угнетение от беспомощности,
от пассивности, от сосредоточенности не на деле, а на ощущении, на эмоции...
Но в целом две недели, проведённые в Гатчине, при поездках в Тайцы, Ропшу, на
ДОП второй ополченческой дивизии, в сравнении с сентябрём при выходе к Ленинграду,
на Пулковских высотах, под Урицком были бы чуть ли не безмятежными для прибывшего
впервые на фронт в паузу немецкого наступления на Ленинград, при всех первых
угрозах рвущимся металлом, если бы не утихающее чувство - мысль даже стремился
оборвать, если не военным, то каким-то другим делом - "стеснения в груди"
- замыканий в психике из-за общего положения на фронтах, из-за обманчивого успокоения
на нашем участке, при всё более учащающихся безнаказанных налётах авиации не
только на огневые позиции артиллерии в Гатчине и вокруг неё, но и на деревни,
демонстративные, с листовками-посулами, листовками-угрозами, из-за того, что
мы пассивно оборонялись, на причудливо изогнутой передовой линии, из-за того,
что в Гатчине мы видели стоящими за домами всего несколько танков, причём случайным
попаданием бомбы с одного из них сорвало башню, из-за замершего, опустевшего
городка, со следами поспешного бегства, из-за рассказов пехотинцев о плотном
миномётном огне, создаваемом немцами, из-за зреющего урожая овощей на совхозных
полях, из-за увеличившихся потерь на наших батареях /однажды мне пришлось отдать
машину, на которой я возил снаряды с ДОПа под раненых с 5-й батареи после бомбёжки
и их еле поместили в неё, ну а в самой глубине, предчувствие непрочности обороны
под Гатчино.[..] под Ропшей... а ведь до Ленинграда 35-40 км. Но мысль о захвате
Ленинграда фашистами никогда не приходила в голову - тут определяло чувство
- невозможно!
Помню, что в самых горьких откровениях, ни у кого никогда не проскальзывало
даже намёка на мысль о сдаче Ленинграда.
Действительное прохождение линии фронта в преддверии Ленинграда нам не было
известно, тем более, не возникало понятие блокады. Драматизм событий не лишал
молодёжь, особенно ту часть, которая не имела своей семьи и не теряла родителей
и близких, естественной жизнерадостности, тем более, что наш полк не прошёл
через трагедию длительного отступления, дробления части, выход[а] из окружения,
больших потерь, да и повторяю, в это время на нашем участке накал сражения ослаб
и если от пушек расчёту не уйти, то в подвижных службах в свободную минуту с
ведома начальства можно было отлучиться, так и [я] однажды побродил по парку,
дошёл до серого монолита дворца.
В эти минуты было тихо и всё же окружающее воспринималось отстранённо[,] без
естественно-любознательно-эмоционального контакта с новым для меня /в Гатчине
я раньше не бывал, хотя и знал о её прошлом. Война, фронт, напряжённость ожидания
чего-то неотступного ещё на первых порах сильно заглушали, оттесняли, сдавливали
некоторые духовно-моральные комплексы стремлений и чувств - позже, в других
условиях, при полной адаптации к военным будням, в свободную минуту их раскованность,
возможность пусть кратковременного проявления стали потребностью и облегчали
военно-фронтовое бытие.
<...рассказ о библиотеке (рядом со зданием фабрики граммофонных пластинок),
и о попытке Тольки добыть "домрушку"...>
А вот командир штабной батареи /или взвода разведки, не помню точно[/] лейтенант
Казембек, щеголеватый и интеллигентный, со шрамом на подбородке, любитель "мо",
чуть не отправился в трибунал за то, что застрелил бродившую и измученно мычавшую
брошенную корову и отправил её в котёл /отослав часть в тыл, в Тайцы/.
Прикрыли его актом о поражении коровы при обстреле. /Акт - великое дело - видел
я и такие, где нехватка шахмат в дивизионе, исчезновение секундомера объяснялись
прямым попаданием в имущество/. <...автор рассуждает о стратегическом значении
пригородов...>
Насколько легче было бы ленинградцам, даже при блокаде, если бы мы удержались
на рубежах конца августа!
Но сознание необходимости держаться за эти рубежи, желание честно делать военное
дело было недостаточно: нехватало ещё выучки, военных навыков, опыта, психологической
стойкости, выдержки при массированных налётах авиации ни ополченцам-добровольцам,
хотя они загодя были произведены в гвардейцы, ни повидимому и многим приписникам
в нашем полку - кадровых частей на нашем участке было немного. Кстати, Вторая
гвардейская дивизия по моим впечатлениям, была экипирована неплохо, но частей
усиления явно нехватало, а от вражеской авиации прикрытия почти не было.
Все радовались появлению хотя бы нескольких наших истребителей, всё же отпор.
Как-то при поездке с начальником в Тайцы, мы уже научились следить за небом,
- пришлось приткнуть машину в тень! Промелькнул над шоссе мессершмидт, следом
другой. И в это время рядом с нами, на освещённой части шоссе, застопорила полуторка
со счетверённым зенитным пулемётом. Оказалось, знакомый Пономарёва, они разговорились.
Вновь показался мессершмидт, тогда знакомый командир сказал пулемётчику: "Дай
очередь!"
Как буквально панически, ко всеобщему удовольствию, шарахнулся в сторону ввысь
самолёт с крестом, когда к нему протянулся светящийся сноп...
Наши батарейцы /знал и по разговорам в штабе и по своим впечатлениям/ воевали
яро, откликаясь на самые различные заявки.
Однажды меня даже поразил самый предельный, показалось чуть ли не 75 градусный
угол возвышения стволов, торчащих над ольховником. О чувствительности для противника
огня полка говорили и постоянные обстрелы огневых позиций огня и авиационные
налёты.
А 76 мм пушки выдвигали и на передний край.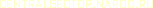
Как-то ночью - об этом рассказал мне младший лейтенант, мой одногод[ка], когда
ездил на велосипеде в штаб УР, по ленинградскому шоссе, одолевая едва-едва подъёмы,
пытались прямой наводкой разбить огневую точку на окраине северной Пижмы - выпустили
с десяток снарядов только гулкий звон. Наша собственная бронекоробка - прекрасная
сталь! Говорит с досады ругались на чём свет стоит.
"Мой" завоз на прицепах из Павловска быстро таял.
Как-то начальник, захватив меня и Олейникова, съездил в Ропшу - будто-бы там
были подходящие к нашим пушкам снаряды /на обратном пути подобрали раненого
пехотинца: "из миномётов лупит страсть, не подняться, не пройти!"/
Договорились с ДОПом Второй гвардейской, что будет нас снабжать. Начальник вновь
посадил меня на коня - сводки остались Тольке, стал возить снаряды на полуторке
- так до 10-го, пока ДОП не разбомбили.
10-го дивизионы оттянули в район Романовки, а я поехал добывать снаряды в Павловск.
В Гатчине больше не был.
С 11 до 16 сентября можно сказать, Комаров (шофер) и я почти не вылезали из
машины, даже ноги сводило и однажды проснулись в темноте, в широком кювете,
по счастью машина не опрокинулась - заглохла!
12-13 сентября 1941 года
Война, как на всех старинных картинах, продвигается в обрамлении пожаров. Не
найдя дивизионов (которые снялись) не видя пехоты, мы с Комаровым на полуторке,
провожаемые отсветами факелов-зданий у въезда в Гатчину, направились по Ленинградскому
шоссе.
Звуки сражения заглушались мотором, тишины тем более мы не могли ощутить, но
мне во всяком случае казалось, что мы остались одни... Где-то рядом выжидал
утра враг, а наших войск будто бы и не было совсем.
Ночью всё обманчиво, пугающе. Кругом чернота-пустота.
Сзади огненные всплески. Едем быстро, машин не встречаем и не догоняем.. Думаю
- Что делать? Полк днём найдём, нужно везти снаряды. Павловский ПААС снялся.
Следовательно остаётся только 70-й склад в Ржевке. Мы дьявольски устали. Комаров
клюёт носом, машина рыщет. Решаем поспать.
Останавливаемся в небольшой деревне, у перекрёстка дорог (налево на Красное
Село, направо на Пушкин, Павловск) Людей не видно да мы и не ищем. Поставили
машину за дом, с северной стороны. Фронт то ведь на юге. Сунули ноги крест на
крест в противоположные углы кабины, прикрылись одеялом (взяли из дома) и скрючившись
заснули...
Проснулся от близкого разрыва. Выскочил, вышел к перекрёстку, второй[,] третий
разрыв за деревней. Оторопел, стреляют с востока. Фронт то ведь на юге?!!! А
на западе, на востоке, вставало прозрачное жёлтое пламя. Взобрался на бугорок.
На востоке - багровое зарево. Полукольцо пожаров. Отдалённые звуки стрельбы
доносятся порывами воздуха. Подошёл Комаров: молча смотрит, сплёвыва[я.] Я понимаю
- он думает о том же, ведь фронт то на юге, у Гатчины. Нам лично неведомы были
окружения, охваты. Мы всегда подсознательно ощущали: вот там фронт, заслон,
барьер против врага, если он отодвигается, всё же остаётся барьером.
А сейчас ощущаешь себя беззащитным против неожиданности, огневые росчерки гипнотизируют
нас.
Странно безлюдно. И вообще тишина - отдалённые звуки выстрелов редки[,] приглушены.
Лишь пять-шесть снарядов упали за деревней, Комаров - спит. Он осунулся, пожелтел.
Всё время в поездках. Я могу - особенно если пригреет солнышко и вздремнуть.
Ему почти не приходится.
Тревожные предчувствия гонят сон - хожу между машиной и перекрёстком. Где же
части? Пожары свободно разгораются - видимо никто не тушит. Жители вероятно
ушли?! Интуитивно и так сказать по совокупности фактов, признаков, прихожу к
заключению, что немцы продвинулись справа и слева от Гатчины. Об ударе на Красное
село, Дудергоф, я уже слышал краем уха в одном из дивизионов, ещё вчера стоявшего
на огневых совсем под Гатчиной, рядом с Пушкинским шоссе. Свидетелем бомбёжки
справа был сам. И всё-таки странно - это слово чаще всего всплывает в сознании
- на Ленинградском шоссе мы никого не встретили - ни своих ни чужих. Может быть
наши залегли поодаль, в темноте ночи? Если немцы продвинулись - то куда? Где
передний край? Для нас двоих неведомо. Но уверенность в том, что между нами
и врагом свои части, линия фронта, что мы - микропесчинка - за стеной, как скажем
за бревенчатой кладкой этого дома - есть! Поэтому я залезаю в тепло кабины,
подремать до рассвета.
Ранним утром, когда солнце отрывается от горизонта размеренно величаво, когда
повеселевший, хотя и привычно молчаливый, Комаров "даёт газу" по синевато-пепельной
ленте асфальта, когда в низине перед Пулковом замечаешь на ходу движение, копошение
людей, когда из-за шума мотора не воспринимаешь других звуков, ночные тревоги,
предчувствия отступают перед безотчётным: - Всё будет хорошо! Остановили, конечно
держат! Мысль о том, что "они" могут перевалить через гребень Пулковской
высоты, на которую мы сейчас въезжаем и ринуться вниз, к Ленинграду, кажется
совершенно дикой, страшной, в глубине - противоестественной... Нет, последний
рубеж уже существует! На небе солнце! Небо голубое, трава уже порядком пожелтевшая,
из-за недавних дождиков, пустила вновь изумрудные побеги. Комаров из-за спины
достает буханку хлеба. Что ж можно и поесть! Не давясь! Впереди на асфальте
цепочка вспышек промахнувшийся "мессершмидт" напомнил нам, что война
всюду... прибавив газу, поглядывая на небо, мы скатываемся по еще затенённому
[склону] - впереди, прижимаясь к горизонту, в розовато-голубой дымке Ленинград.
На заставах придирчивее вертят наши месячные командировки-удостоверения, путевой
лист, заглядывают в кузов. В городе не задерживаемся - наверное поэтому в памяти
не осталось реакции людей в это утро - а может быть внешне, на улицах, беспокойство
не очень проявлялось, тем более, что за нами, оттуда, откуда мы приехали, не
дошёл ещё сюда шквал фронтовых звуков. Попадались небольшие подразделения, двигавшиеся
в сторону Пулково.
Но 70-м складе "клиентов" ещё было мало. У меня наряда не было. Удалось
уговорить - где же иначе брать? - дали 25 ящиков 107 мм. Машина старенькая -
кряхтит. Назад едем помедленнее. Как много в городе людей, снуют, идут, едут,
как обычно, но если встретишься глазами с кем-нибудь, когда остановят на перекрестке
на них тень, лица без улыбок - но нигде ни следа панической суеты, не скапливаются,
не расспрашивают тревожно друг друга, наоборот спешат куда-то торопливо-устремлённо...
Солнце печёт предвечерне. Душно и [от] этого, наверно, присмиревшая внутри озабоченность,
комком подбирается к горлу, мешает вздохнуть вольно, полной грудью.
Сидишь привалившись к дверке. Проезжая мимо Средней Рогатки, вдруг замечаем
тракторы, знакомые пушки - не спутаешь! Наши!
Подбегаю к первому трактору, радостный, узнаю отрывистые новости: дивизионы
спустились с Пулковской горы, штаб в Каменке. 1-ая батарея уронила орудие с
моста - по пятам шли немцы. Командует Г, - комиссар полка, командир и помначштаба
остались на НП, пока неизвестно где. Начальник суетится. Г. приказывает снаряды
под Пески. Весь скат высоты, дорога в букетах разрывов. Подъехали к пушкам,
стоят прямо на грунтовой дороге. расчёты подхватывают снаряды и тут же ведут
огонь.
Доставили во время - у них были только фугасные без зарядов.
Обратно к Каменке - вдоль аэродрома. Через километр - огневые позиции полковых
пушек. А наши, корпусные, впереди.
Как узнали позже, наши отходили так: две пушки батареи ведут огонь, больше прямой
наводкой, шрапнелью, две перебираются на новый рубеж, открывают огонь через
головы первого взвода - этот отходит.
Темнеет, Пулковские высоты ежеминутно вспыхивают. В Каменке на ходу едим. "Витя"
снова на 75 артбазу "ремонтировать систему". Мне велено ехать в штаб
фронта - достать наряд на снаряды. Скоро в подъезде, с угла Невского, здания
Главного штаба, звоню, говорю: представитель 704 артполка. Звание? - Красноармеец!
в трубке смех, но пропуск быстро спускают. Высокая комната. Потолок пропадает
в полутьме. Зелёные абажуры, желтоватые блики света. Ко мне стягиваются все.
Расспрашивают. Узнав, что корпусные впереди полковых, возмущаются. Извне не
доносится ни звука. В тоне артснабженцев есть нотки беспокойства. Но вообще,
здесь спокойно, это импонирует и немножко раздражает.
Направляют к Кировскому заводу, в 22 школе (знаю, где-то у поворота на завод
Жданова штаб армии.
Едем в полной мгле, на юге и на западе сполохи, в городе почти нет движения.
Двигаемся медленно, можно сказать ощупью.
На проспекте Газа вылез на крыло, пытаюсь подсвечивать дорогу фонариком. Трясёт,
скольжу. За Нарвскими воротами начались пояса баррикад. Выхожу вперёд, машина
ползёт за мной по фонарику. Я замешкался и передним колесом чуть прижало ногу.
Долго движемся. Наконец поворот к заводу Жданова - справа пустырь. Где-то впереди,
за Автово, зарево. Вправо у заводов разрывы. Время от времени снаряды рвутся
и в районе перекрёстка. Машину спрятали за баррикаду. ИЕдём в школу -
под ногами следы строительства, несколько раз падаем. Ощущение такое - тьма
все поглотила. Но вот светлый прямоугольник - дверь. Не ошиблись - штаб. В артснабе
- класс, койки, простые столы - возбуждение. Группа работников только что добралась,
переоделась - были мокрые, грязные. Автоматчики вырвались к Петергофскому шоссе,
им пришлось пробраться вдоль берега, по заболоченной низине. Расспросы - утверждают,
что развилка на Красное Село занята. Накладную выписали. Снаряды надо брать
с колёс - со станции Автово. Чину никто не удивился. Не до этого. Попали даже
в столовую.
В память врезалась зловещая картина на переезде Автово.
Вокруг заглохшего КВ - грузно занял центр шоссе - суетятся танкисты с факелами
в руках. Красноватое пламя, колеблясь, освещает обтекающие танк с двух сторон
потоки людей, скота, появляющихся из темноты: крики животных покрывают все шумы,
люди, увешанные узлами, пригнувшиеся, кажутся призраками. Блеснут глаза - через
тени усталости, страха просвечивает угрюмая решимость. Никто не оглядывается.
<...>
<...> Фронтовые записки /с листиков-черновиков военных и первых послевоенных
лет./
<...>Пока грузили снаряды, я отправился в привычную для меня парикмахерскую
- соскрести двух дневную подкопчённую бороду. Меня не узнали - прошло три года.
Но, когда я стал клевать носом, пожилой мастер, как само собой разумеющее[ся]
сказала: Спи! Выбрею - разбужу!
Она не спешила. Полчаса я проспал в кресле, вероятно в самом уютном из всех.
А затем сияя свежестью щёк, оттенtнных замызганной гимнастеркой /трактор, даже
персональный, уступал всё же по чистоте даже грузовику/, снова отправился на
полевой артиллерийский армейский склад (ПААС). Дорога к нему шла мимо дворцов,
по шоссе, над которым сомкнулись своды вековых деревьев, мимо Павловского вокзала,
куда когда-то съезжалась петербургская знать на концерты.
<...>
Отдельные "кадры" (продолжение)
4. Начало сентября 1941 года
Немецкие самолёты бомбили деревни вокруг Гатчины: показательно-выборочно. Одновременно
сбрасывались листовки на другие: в них говорилось, что так будет со всеми, если
сопротивление на фронте будет продолжаться. Среди листовок была одна с фотографией
- "разобрать" лица на ней невозможно, но подпись гласила - "взятый
в плен Яков Сталин разговаривает с немецкими лётчиками. Сужу по многим - листовки
вызывали любопытство, пересуды, но не страх..., а в конце концов безнаказанное
хозяйничанье в воздухе - острое озлобление. Нечем достать (зенитной артиллерии
также нехватало. Она была, естественно, стянута к Ленинграду).
8 сентября началось очередное "решительное" наступление противника.
Бомбёжка шла волнами, захватывала весь район, я возил боеприпасы с ДОПа Второй
гвардейской (ополченческой) дивизии[.] 9-го или скорее 10-го сентября налёты
участились и приходилось нередко останавливаться, пережидать. На этом фоне запомнился
эпизод у поворота Ленинградского шоссе на Тайцы: что-то по особому эпическое
и дерзкое, по-ленинградски привычное, а теперь необычное, героическое и ироническое
было в нём. Напоминая летние перевозки детей в пионерские лагеря, из-за перелома
ленты шоссе показалась колонна голубоватых городских автобусов. Она оказалась
"противоестественно (как для городских перевозок, так и для опасности с
воздуха) длинной.
Казалось конца не было этим трудягам: двуосным коробочкам, трёхосным тяжеловозам,
ещё сверкающим светом лаком последним моделям ЗИСа... Они подкатывали один за
другим к повороту, покачиваясь и вздымая пыль, переползая на просёлок.
В окнах торчали солдатские головы и плечи... Не меньше батальона срочно перебрасывалось
куда-то (в район Ропши - Красного Села), где как нам стало ясно /ясно было и
в небе, палило нещадно солнце и немецкие лётчики притомились что ли или обедали
- тогда ещё были у них перерывы!/ было скверно, иначе не перебрасывали бы таким
образом при великолепной погоде целую часть.../не знаю, добрал[а]сь ли без бомбёжки
до места назначения эта автобусная кавалькада/? Мы долго молча следили как перемещаются
клубы пыли всё ближе к Тайцам. Так и сохранилось у меня по сей день это ощущение
мужественной деловитости ленинградских водителей. Трамвай идёт на фронт"
- писали несколько позже околофронтовые литераторы.
Вот автобусы действительно были брошены к фронту.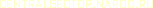
А в историю, как скажем парижские таксомоторы, использованные Фошем в 1 мировую
войну, наши не попали.
<...>
7. Одним из самых лично-неприятных моментов было известие о расформировании
нашего 704 артполка в середине ноября 1941 года. Каждый военнослужащий, а тем
более фронтовик, сжившись со своей частью, с непосредственно окружающей его
средой, связанный с "местными" традициями, внутренним микро-климатом
коллектива обычно болезненно переживает пересадку на новую почву ( у офицеров
это частично скрашивается повышением по службе, повышенной ответственностью
нового задания и тому подобным) Ну, а если уже сложились дружеские отношения
- постоянство фронтового товарищества, так тем более. Рядовые же и даже сержанты
всегда могут попасть и в другой род войск. У меня были особые причины ощущать
беспокойство перед "неизвестностью".
Прежде всего причуды моей натуры. При всей склонности к движению, к смене впечатлений,
к разъездам - странная консервативность "привычек" к окружению, месту,
так сказать к структуре ближайшего окружения, к своему постоянному уголку..
Существеннее было другое. Полк, сформированный в ноябре-декабре 1940 года, как
зенитный, вскоре стал полевым корпусным. (в/ч 8724 - 704 АП РГК) Правда, при
смене систем состав его мало изменился. Штаб, службы полка, штабная батарея
пополнились приписниками в первые дни войны. Дивизионы 152 мм пушек-гаубиц образца
1938 г один за другим ушли на фронт в июле. Но управление осталось. В конце
июля получили 107 мм пушки обр. 1916г [вероятно, выпуска 1916 г., а образца
10/30 г. Такая пушка есть во дворе Артиллерийского музея - от входа направо,
в самом углу. Очень красивая пушка. - А.Т.] (к слову сказать, точно, без капризов
стрелявшие.
В батареях стал сплошь приписной рядовой и сержантский состав. Среди командиров
много свежих выпускников училищ - почти моих однолеток. С ними мне и пришлось
в дальнейшем иметь дело, а кое с кем и держаться "по приятельски. Но главное:
в управлении полка и в дивизионах с выездом на фронт стали на меня посматривать
как на, не просто толковую (по "мирным" контактам, проверке и т.д.)
а полезную для полка в целом фигуру: фактически снабжение боеприпасами стало
делом моих рук, а они первый хлеб на войне; причём нередко буквально: сам получал
наряды, сам (вместе с шофером Комаровым) грузил, доставлял, не говоря уже об
особых случаях (посылали в штаб армии, даже фронта). Доверяли. Был свободен
от мелочной опёки - делай как знаешь, только обеспечивай. И всё это в чине красноармейца,
сержантские треугольники "выдали" к 7 ноября 1941 года. Естественно,
что с командирами взводов боепитания дивизионов сложились сперва "заинтересованные",
а затем по-человечески дружеские контакты.
Военное товарищество с Валентином Олейниковым (Степаном степановичем) и по существу
"гражданская дружба /продолжавшаяся и после войны[/] с Николаем Смирновым.
Его тёзка московский десятиклассник, кадровый сержант с которым я был так сказать
ещё в кадровой дружбе, ушёл с дивизионом Комарова к Невской Дубровке в августе
1941 года и вскоре его след затерялся... Но к описываемому моменту и с Олейниковым
и со Смирновым было ещё только взаимное "благорасположение" с некоторой
поправкой, не афишируемой, на разницу в званиях и на "присматривание".
То есть дружеские связи в треволнениях ноябрьского известия особой роли не играли,
а вот расположение планет полка в целом и служб в частности было на редкость
благополучным ко мне; да тут ещё своеобразно-"привилегированное" положение
часто разъезжающего, ходящего в город..! И всё таки основной причиной - неосознанным
психологическим фактором - был[а] сама общая ситуация в Ленинграде, внутри кольца
блокады, на Ленинградском фронте, а также под Москвой... Постоянное напряжение
а тут ещё потрясён твой "личный тыл".
Только что затихли бои на дуге от моря до Ивановских порогов, но продолжались
на "Невском пятачке", город всё гуще бомбили и обстреливали, а в сводках
Информбюро появлялись названия городков и посёлков подмосковной зоны. Все жаждали
известий о стабилизации фронта... Хотя мы ощущали - в низах ленинградских войск
- что немцы здесь, под Ленинградом, выдохлись, видели, что они закрываются в
землю, всё же неясно, что будет дальше, предчувствовали, что прорвать кольцо
в ближайшее время не удастся /помню бесконечные разговоры, споры в подвале-убежище
при свете коптилок. Как прислушивались, выйдя на воздух, к зудливому вою моторов
юнкерсов, в темноте вечера и ночи, высоко пересекавшие "капля по капле"
небо Ленинграда, с юга на север бомб и пальба зениток/
В одну из таких душно-тревожных ночей /кажется 13-14 ноября/ меня разбудил Семён
Пащенко. - "В штаб, к начальнику, полк расформировывается, надо сдавать
матчасть" /107 мм пушки остались без боеприпасов, довоенные запасы мы расстреляли.
Армия создавала несколько истребительно-противотанковых полков. В очередной
раз сохранялось ядро управления и службы полка. Всё остальное уходило, сдавалось
/. Лишь на второй день начальник сказал, что штаб полка и службы остаются/ пообчистившись
от бестолковых и неудобных.
В.Ц-в отправил таким манером мастера-оптика Кутузова - за независимость в характере
и обалдуйного Тольку Евдокимова, старшину - старшего писаря артдивизиона /снабжения/
Я был ещё полезен и сие перевесило неприятности от строптивости. Два дня ныла
душёнка - вдруг всё отсечётся, переменится, вдруг куда-то, а что там ждёт?!
[?] Но нет, знакомые всё лица... всё тот же милый уголок...!
На третий день отправились принимать новую матчасть - в амплуа артснабжения
3-го истребительно-противотанкового полка 42-й армии /несколько позже официальный
номер стал 304 иптап/
И тут новые эмоции: - передали нам огневые точки УР-ов, стационарные по линии
окружной железной дороги, в Обухове. Тупорылые Коротышки (76 мм полковые и 45
мм. Танковые на тяжёлом лафете /смерть расчёту/ и несколько батарей 37 мм. /Вскоре
от стационарных точек избавили, а летом 1942 года подкинули трофейные 56 мм/
- после корпусной аристократии каково иметь дело с этими разномастными плебеями!
В мрачную зиму 1941/1942 гг когда было голодно во всех отношениях - на орудие
приходилось редко по половине боекомплекта и, когда ставили задачу, считали
каждый выстрел - плебеи показывали себя: их выкатывали в мглистый рассвет на
открытую позицию, одним-двумя снарядами размётывали амбразуру ДЗОТа, выкуривали
немцев из блиндажей на мороз /у корпусной для пристрелки могло уйти больше...
Наш полк стал снова активным!
<...>centralsector.narod.ru
Составил Игорь Фёдорович Соломыков.
Архивные материалы
Полные тексты
Главная страница
Сайт управляется системой
uCoz